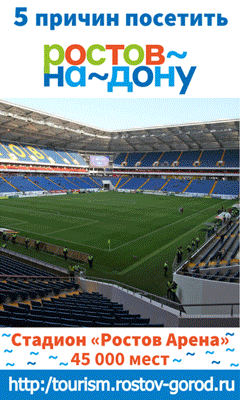«Мы можем развивать наши природные парки без советов зарубежных экоактивистов»
Как России развивать экотуризм и при этом защитить ценные природные территории, куда нужно вкладывать инвестиции, чтобы это работало, и почему помехой в развитии становятся такие организации как «Гринпис» и прочие западные «зеленые» структуры?
Ростуризм предложил в конце 2020 года новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который должен стартовать в 2021 году. Основными направлениями работы в рамках нацпроекта станут развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры в составе качественных турпродуктов, повышение доступности внутренних направлений и информированности о них, совершенствование управления в сфере туризма.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин не раз подчеркивали важность активного развития внутреннего туризма, отмечая, в частности, особую роль для страны развития туризма в таких отдаленных от центральной части России регионах, как, например, Камчатка, Сахалин. Сфера внутреннего туризма и экотуризма получила второе дыхание: пандемия и закрытие границ сыграли, в этом вопросе только на руку.
При этом глава государства уже довольно резко высказывался в отношении зарубежных структур, в том числе «Гринписа», который пытается навязывать России свою точку зрения и мешать созданию новых туристических зон на природных территориях. «Они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя — создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Нам ничего нельзя, и это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития», - отмечал Владимир Путин, комментируя действия гринписовцев.
«Инвестиции в туризм» обсудили тему развития туризма и инвестиций в эту сферу, а также в природоохранные мероприятия с экономистом и журналистом, ведущим программы «Сельский час» Игорем АБАКУМОВЫМ.
- Сегодня становятся популярными такие направления туризма, как агротуризм, экотуризм, посещение природных территорий, национальных парков. Человек стремится создать для себя комфортную среду жизни, которая немыслима без благоприятной экологической обстановки. Как найти равновесие между интересами сохранения природных территорий и потребностями людей?
- Действительно, в России есть совершенно недооцененный ресурс - национальные парки. Они достойны посещения туристами. Но этот ресурс не оснащен никакой инфраструктурой. Нужны аэропорты, железнодорожные вокзалы, дороги, гостиницы, условия для рекреации, пока даже поесть там негде. Этот ресурс нуждается в очень серьезном инвестировании. Это могут быть частные инвестиции, государственные инвестиции в будущее.
Но в наших условиях частные инвестиции чреваты всякого рода застройками, не относящимися к туризму. У нас недоработано законодательство в этой сфере, оно находится в девственном состоянии. И специальное экологическое законодательство у нас еще не выросло из коротких штанишек.
- Россия – страна, в которой представлены почти все климатические природные зоны, мы обладаем уникальными территориями, позволяющими создавать зоны отдыха и туризма. Можно ли компетентно совмещать развитие промышленности и потребности граждан в рекреации? В чем разница между полноценным общественным контролем за использованием природных территорий и требованиями некоторых «зеленых» организаций, того же Гринписа, вообще свернуть всякое производство?
- Еще никогда не удавалось соблюсти баланс между экологией и государственными интересами. Пример – Байкальский ЦБК. Судьба его непонятна. Но то, что слив может идти в реки, которые питают Байкал – это весьма вероятно.
Нужно воспитывать общее экологическое мышление. Прежде всего, в руководстве, а от руководства - это транслировать вниз. Нужна общая государственная экологическая стратегия – раз, воспитание – два. Но на воспитание нужно столетие положить, этого за месяц не достичь. Безусловно, нужны усилия всей страны. Нужно ужесточение законодательства в части нарушения экологических норм и правил, в части браконьерства, лесных вырубок. Но ужесточение должно быть совершенно четкое, понятное. При этом местное население, которое проживает на территории этих национальных парков, либо на территории этих экологических объектов, часто не имеет работы, и браконьерство является единственным способом выживания. Этот вопрос тоже надо решать.
Задача государства сделать так, чтобы местные жители, например, работали в национальном парке. А люди должны понимать, что этому надо выучиться, понимать, что если не будет этого национального парка, то не будет работы и будущего на этой территории. То есть они должны охранять парк не потому, что им платят за это деньги (а платить надо достойно – они же достояние нации охраняют!), а потому, что здесь будут еще работать их дети и внуки.
- Как Вы оцениваете довольно агрессивное поведение «Гринписа», активно противодействующего развитию экотуризма именно в России?
- Пусть «Гринпис» возражает против посещения национальных парков в США, например, Йеллоустоунского заповедника. Вот пусть они там попробуют что-нибудь запретить. Не знаю, куда в итоге их пошлют.
- Кстати, действительно, ведь за рубежом экотуризм активно развивается в национальных парках. И там Greenpeace это не запрещает – эксперты отмечают, что «гринписовцы» не трогают своих, которые им платят, зато нападают на экономические решения других стран, России в том числе. Вряд ли зарубежные экоактивисты имеют право запрещать России развивать туризм на своих природных территориях, мы тоже умеем делать это с учетом строгой защиты природы, а нацпарки зато получают финансовую подушку и могут развивать природоохранную работу.
- Да, конечно. Взять даже опыт Африки, Кении, например, где национальные парки занимают миллионы гектаров. Охрана этих угодий – дело наследственное. Работники этих парков - это не временные люди, пришедшие по найму или вахтовым методом здесь работающие. Это люди, которые там жили поколениями, живут и будут жить. Они знают эту территорию, они знают, из какого ручья питается какая река, какие звери, где живут, где расположены родники и так далее. Они прекрасно ориентируются на этой местности, знают ее взаимосвязи.
И есть другая, важная сторона. Законодательство в сфере местного самоуправления. Если люди, живущие на территории, не имеют никаких прав на эту территорию, не имеют никаких прав высказывать свое мнение о развитии этой территории, и воздействовать на ее развитие, сохранять природные территории будет сложно.
То есть, мы сами, жители таких природных территорий, должны иметь право и интерес защищать и развивать эти места. И уж, конечно, не дело зарубежных структур указывать России, что делать на своей земле. Мы вполне способны сами отслеживать соблюдение законов.
- А что нужно делать России, чтобы сохранять благоприятную экологию и при этом развивать свою экономику, вкладывать инвестиции и в защиту природы, и в туризм, поддерживать оба направления?
- Сейчас в России и в правительстве, в системе образования - «партия урбанистов». Они настаивают на том, что в стране должны быть несколько городских агломераций, в которые будут втянуты все сельские территории. И это ничем хорошим не кончится. Но эта точка зрения сейчас является главной, те, кто понимают гибельность такого подхода, отлучены от центральных СМИ и государственного финансирования. Нет финансирования – нет научных школ.
То есть для сохранения благоприятной экологии в России нужно еще выработать государственную стратегию, которая будет подтверждена материально, усовершенствовать законодательство, вплоть до местного самоуправления, обеспечить поддержку науки в этой сфере, профильное образование, воспитание, то есть вырастить нужное количество квалифицированных кадров. Кадры, кстати, вначале нужно воспитать, чтобы было кому продвигать эту национальную стратегию. Нужно заложить экологические традиции, наконец.
- Развитие природных территорий в интересах восстановления сил и здоровья человека – обязательное условие заботы государства о своих гражданах. Рекреационная география дает возможности ответственно оценить, в какой степени можно использовать для туризма и отдыха те или иные природные территории. Можно ли привести примеры успешного сотрудничества экологов и промышленников?
- Кое-где уже начинается или восстанавливается экологическое мышление, пусть вынужденно. Вот пример - лесозащитные полосы создавались при СССР. Они поддерживают микроклимат на поле, особенно, в степях, не допуская высушивания, и они корнями подтягивают нижние водоносные слои до уровня растений на поле. Такая вот лесомелиорация. Это были государственные лесополосы – государство их проектировало, сажало, финансировало, поддерживало. Работали специальные институты, были специальные лесопосадочные предприятия. Когда землю приватизировали, лесополосы были приватизированы вместе с полями. Большинство новых хозяев не тратились на содержание лесополос, их вообще растащили на дрова.
Новые хозяева, которые выращивали на приватизированных землях сельскохозяйственные культуры, потом удивлялись, почему начались частые засухи. А те, которые понимали, зачем нужны лесополосы, за ними ухаживали, подсаживали, укрепляли, использовали. Если раньше для дешевизны там сажали тополя, то сейчас там сажают орешник, фруктовые деревья. Но не ради промышленного садоводства, а, например, чтобы комбайнер, проезжая мимо, видел цветущую яблоню. Дополнительные позитивные эмоции человеку никогда не помешают. Такой вот приятный сюрприз.
Некоторые хозяева лесополос пускают туда домашнюю птицу – там тень, и домашняя птица в этом месте прекрасно живет, несет яйца, выводит цыплят. И получается деликатесный продукт. Это в какой-то степени компенсирует затраты на устройство лесополос.
В лесополосах гнездятся птицы, которые уничтожают вредителей урожая, зайцы там водятся, развелось много диких фазанов, которые считались вообще исчезнувшими в этой местности. Речь идет о Юге России - это Кубань, Ставропольский край, Адыгея, Ростовская область. Опытом восстановления лесополос там делятся друг с другом, что пока еще нельзя назвать движением, но полос все больше. Сейчас такое сохранение лесополос частным образом двинулось уже от Ростова в сторону Воронежа. Это поддерживает и охотничью деятельность – фермеры за деньги пускают охотников в свои угодья.
Агрохолдинги тоже сохраняют и восстанавливают лесополосы. Получился такой консенсус всех – местных жителей, фермеров, агрохолдингов.
- Кстати, зеленый пояс в виде таких лесополос, свободных от промышленности территорий, действительно нужен городам. Это легкие городов. Раньше в стране была такая практика, за рубежом принцип «зеленого зонтика» вокруг крупных городов стараются сохранять. Думается, и России нужно придерживаться этой традиции. Например, сейчас туризм активно развивается на Камчатке, и местные экологи ратуют за то, чтобы убирать за 50, 60, 100 километров от городов и природно-рекреационных туристических зон промышленные предприятия, в том числе занимающиеся приносящей гигантский вред для природы золотодобычей.
- Конечно же, вы правы, такой зеленый пояс просто необходим вокруг городов, это здоровье и природы, и людей. Не изобретая велосипеда, надо опираться на то, что уже было наработано советскими учеными, надо активнее подключать сегодня науку к этому вопросу. Опасное вредное производство не может находиться рядом с природными территориями, населенными пунктами, туристическими зонами.
- «Гринпис» одно время даже возражал против восстановления таких зеленых поясов. Такое ощущение, что подобная позиция - это поддержка гринписовцами зарубежных «хозяев», которые и содержат в России многие опасные для природы производства. Например, печально известную на Камчатке золотодобывающую компанию «Тревожное зарево» - одно название чего стоит - которая замечена в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства, учредила британская Trans-Siberian Gold. Что это, нежелание «Гринписа» побороться вместе с российскими экологами за российскую же природу, игра на западные интересы?
- Да, соглашусь с вами, такая избирательность в подходах на Западе и у нас, вызывает вопрос: а честная ли это игра? И мы должны обеспечить «зеленый пояс» и эту безопасность, без оглядки на «гринписовцев» и всяких прочих западных экоактивистов, которые протестуют против вполне разумных подходов, явно не в интересах России.
- Сегодня, кроме Камчатки, федеральные и региональные власти стараются развивать туризм и в таких издавна «намоленных» туристами местах, как Байкал, Алтай, юг России. Что нужно, чтобы в стране более активно развивался экотуризм?
- Экотуризм в стране бы вырос значительно, если бы, например, повсюду – от Камчатки да вдоль всей Волги повсеместно - у нас были хорошо оснащенные санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы, но пока этого нет! А экстремального туризма у нас хватает – заброшенных уголков сколько угодно в той же Ивановской области, например, или под Вологдой. Нам повсюду не хватает дорог, инфраструктуры, сервиса.
Хорошо знаю, например, город Бийск, находящемся на слиянии рек Бии и Катуни, на Алтае. Там местная власть четко объяснила свою позицию частному сектору, заинтересованному в приеме туристов, которых приезжает действительно много. «Хотите, чтобы был порядок, интернет, дороги – платите налоги с каждого постояльца в бюджет района». И платят. И есть порядок, дороги, интернет. Но этот консенсус там вырабатывался лет 20-25. Четверть века. Вот, как сложно, подчас, поменять менталитет местных жителей!
Таким образом, я думаю, важны, действительно, инвестиции – как государственные, так и частные, и разумный честный подход местных жителей, которые заинтересованы в том, чтобы быть вовлеченными в развитие туризма в своем регионе. И, конечно, нужно не запускать, не забрасывать природные территории, а развивать их, одновременно сберегая экологию. В этом у России есть свой богатый опыт и научные знания, мы вполне способны решать эти вопросы без зарубежных экоактивистов.
Беседовала Алла БУРЦЕВА,
специально для интернет-газеты «Инвестиции в туризм»